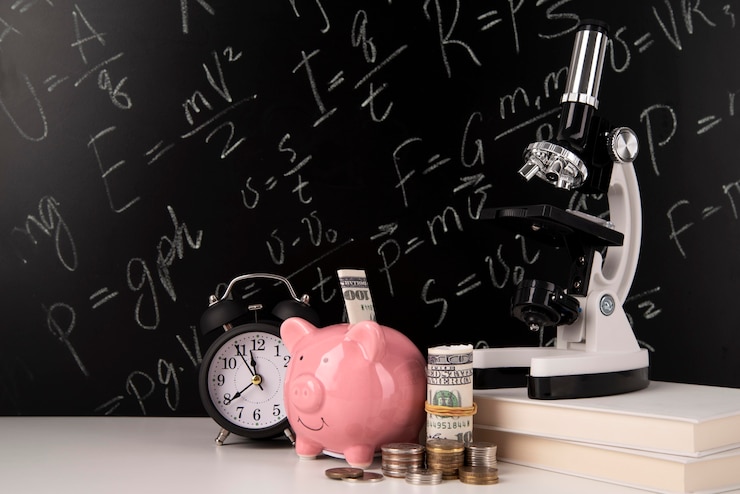Среди нас осталось немного людей спорта, переживших самую страшную войну в истории человечества.
Их воспоминания — не приукрашенные, реальные, живые — с каждым годом всё ценнее и полезнее для молодых поколений. Борису Петровичу Игнатьеву было всего полгода, когда началась Великая Отечественная война, и четыре с половиной года — когда закончилась. Но картинки из детства, военного и послевоенного времени, у него и сегодня живы в памяти.
Родился 5 декабря 1940 года в Москве. Воспитанник московского «Спартака». Играл на позиции полузащитника за клубы Ижевска, Горького, Махачкалы, Уфы. Заслуженный тренер РСФСР. Чемпион Европы 1988 года в возрастной категории до 18 лет. Руководил юношеской и главной сборными России. Помогал Юрию Сёмину в сборной России, киевском «Динамо» и «Локомотиве».
— С началом войны вас сразу отправили из Москвы?
Мой отец трудился на авиационном заводе и не подлежал призыву в армию. Родине была необходима его работа в другом месте. После переезда предприятия в Горький (сейчас Нижний Новгород) мы тоже туда отправились. Поближе к концу войны мы с мамой вернулись в Москву, а отец присоединился к нам позднее.
— Как вам жилось в Горьком?
Жили мы вдали от боевых действий. Не очень четко помню улицу и комнатушку в коммунальной квартире, вокруг много людей. Но негативных моментов в памяти не осталось. Москвичам доброжелательно помогали соседи. Было ощущение дружбы, товарищества. С продуктами было тяжело. До сих пор с удовольствием вспоминаю вкус подсоленной варёной картошки, обмакнутой в подсолнечное масло. Другой еды особо и не было. По возвращении в Москву часто с братом играли в хоккей на пустырёк неподалёку от дома. Отец сделал нам клюшки, коньки привязывали к валенкам. Рядом пленные немцы строили бульвар на Неглинной улице. И однажды немецкий солдат подарил нам банку сгущённого молока. По сей день кажется, помню его вкус! В те годы были счастливы всем, что есть на столе: хлеб, масло — уже хорошо. Нам этого было достаточно. А главным атрибутом любого послевоенного застолья считались картошка, селёдка, щи. Сегодняшнего изобилия и близко не было.
В таком юном возрасте чувствовалось, будто ведётся война?
Конечно. Даже малыши помогали Красной армии. Люди из домоуправления собирали нас, детей, тушить зажигательные бомбы.
Bombs did not explode but caused fires when they hit buildings and warehouses. I don’t even remember what these shells looked like — only the process. We, little ones, followed men with armbands, and he directed: you go to this courtyard, you — to that one. Special people dropped bombs from rooftops, and we covered them with sand on the ground.
— Страха не было?
Было скорее чувство игры в войнушку, но одновременно и большого события.
— Какие воспоминания о мае 1945 года?
В 1945 году я проживал в Москве на Неглинной, близко к центру. В детской памяти осталось ощущение всеобщего ликования. Праздничная Москва: цветы, подарки… Люди обнимались. Много было военных. Женщины целовались с солдатами, офицерами. Меня, ребёнка, незнакомцы угощали на улице шоколадками. 1947 год — 800-летие Москвы — также грандиозное событие, праздник. Мы, дети, бегали по городу до Красной площади, играли в прятки, казаков-разбойников. Активными были детьми. Бывало и драки улица на улицу, не обошлось без футбольных баталий.
— Какой была Москва послевоенная?
Я бы не сказал, что она была разрушена или даже сильно повреждена. У нас на Неглинной такого не было. Возможно, за центральную часть города несли повышенную ответственность. Но Москва в целом, как мне кажется, сохранилась в достойном виде, потому что её хорошо и качественно охраняли. Защиту столицы считали очень престижным делом, и к ней привлекали много людей.
— Алексей Александрович Парамонов говорил мне о том, как вдевятером в 26-метровой квартире в 1950-х годах жили. А у вас как было?
В коммуналке насчитывалось пять комнат, проживало около двадцати человек. Жилищного пространства не хватало. У всех была одна общая кухня. Иногда происходили ссоры из-за места для готовки. Однако все жильцы чувствовали единение, понимая сложность времени и необходимость быть вместе.
— У вас на фронте дядя был?
— Да, Фёдор Николаевич. С войны вернулся подполковником. В первые дни после возвращения много рассказывал о лишениях и победах.
— Мои деды не любили говорить о войне. А у вас как с родственниками?
В семье было шестеро братьев и одна сестра. Раз в неделю родня собиралась: то у нас, то у кого-то из них дома. Устраивался пир, пелись песни. Часто заводилась тема войны, но не как страшилки, а в виде жизненных историй. Например, о том, как командир поступил в той или иной ситуации. После войны отец раз в неделю, в пятницу или субботу, ходил в рюмочную и брал меня с собой. Тогда икру искать, покупать нужно было, ведь это не считалось деликатесом, а обыденным продуктом. В питейном заведении стояли два бочонка — в одном красная икра, в другом — чёрная. Отец брал себе сто граммов водки, не больше, и два бутерброда, а мне — что-то вкусненькое. Он был очень порядочным человеком, никогда не ругался матом. Таких сейчас мало.
— Послевоенный футбол был отдушиной для людей?
Позже начал ходить на футбол. Сосед помоложе водил меня туда. Ранее сами играли: улица против улицы, двор против двора. О футболе говорили много.
Было ли отношение к футболу иным, чем сегодня? Был ли культ вообще?
Футбол был значимым событием для общества, даже культовым. Игроки были мастерами своего дела: Бобров, Трофимов, Николаев, Гринин. На матчах всегда было много зрителей. Люди заранее выезжали из дома, чтобы попасть на игру. В троллейбусах сложно было разместиться — висели за поручнями, снаружи, лишь бы добраться до «Динамо». А я, будучи маленьким, бесплатно попадал на стадион: вот пролез, там перед контролёром поплакал — пропускали!
— В начале пути в «Спартаке» близко общались с олимпийскими чемпионами из Мельбурна?
Конечно. В Тарасовку нас возили, и юные мы смотрели на тренировки Седова, Тищенко, Исаева Анатолия Константиновича, Парамонова Алексея Саныча. Мастера высокого класса – каждый со своим футбольным почерком. Стереотипных игроков было и тогда достаточно, но виртуозов хватало, которые разукрашивали игру, делали её более зрелищной.
— С футболистами-фронтовиками впоследствии пересекались?
Став старше, судьба свела с многочисленными взрослыми, которые служили в армии. Для них 9 Мая и 23 февраля становились значимыми праздниками. Встречали друг друга, отмечали и вспоминали.
— Какой традиционный тост, пожелание у вас на День Победы?
Чтобы войны не было, чтобы люди жили без горя, а дети счастьем были полны.